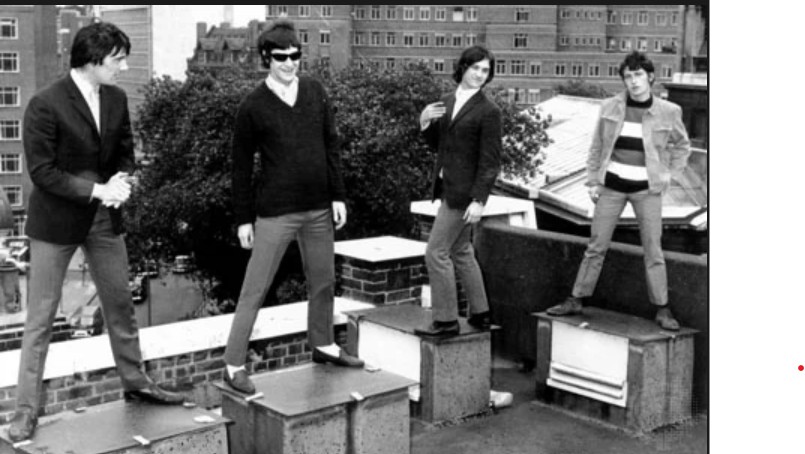Автор: Ника Дубровски, писательница (Институт Давида Грэбера). https://music.davidgraeber.org/
I.
Любопытно, что в Британии, во время второй мировой и сразу после неё, было тяжело, голодно — «кашица, морковь и хлеб по талонам» — и так продолжалось до начала 1960-х. Карточная система закончилась только в середине 1950-х.
Потом пришло десятилетие надежд и видимых улучшений: от ужаса и голода — к «сейчас купим холодильник».
К этому моменту только начинался нефтяной кризис и английское правительство взялось за разрушение системы государства всеобщего благосостояния, которую создавали в течение 10–15 лет после окончания Второй мировой.
Как говорили нам панк музыканты,- "No Future"
Однако (!) сама возможность (хоть и бедного) существования на пособие по безработице вырастила целое поколение покоривших мир английских музыкантов.
В том числе они покорили и советскую молодёжь, и, вероятно, внесли серьёзный вклад в разрушение СССР.
Странный поворот истории: молодёжь, которая издевалась над королевой, над властью и ненавидела Тэтчер, делала это так привлекательно, что остальной мир захотел жить точно так же — упс -- под контролем Тэтчер. Возможно, что именно эта музыка, как пение сирен для зазевавшегося моряка, привела наивного Горбачёва в липкие лапки тётушки Тэтчер.
Между тем, в СССР в семдесятых происходили похожие процессы: поколение дворников и сторожей (то есть людей, живших в государстве всеобщего благосостояния), презиравшее свою власть, точно так же как и их английские сверстники, учило английский, покупало запрещённые пластинки с музыкой 70-х.
Одна из любимых групп Давида Грэбера, UB40, была названа в честь номера пособия по безработице.
Странно, что большинство советских неформалов поколения семидесятых были либералами-антисоветчиками, а не коммунистами или хотя бы социал-демократами и панками, как их заокеанские кумиры.
II.
В продолжение разговора - ценные замечания от Вадима Яковлева и Артёма Кирпичёнка.
Большая часть советских неформалов происходила из элитных номенклатурных семей. Их амбиции были не управлять госсобственностью, как их родители, а владеть ею. Это был советский средний класс, который транслировал соответствующие ценности. В отличие от британских Лайдонов и Сидов Вишесов, вышедших из бедности, советские неформалы были детьми привилегированных.
Родители моих друзей-неформалов ездили за границу — в СССР это считалось невероятной роскошью. Западная протестная музыка попадала к ним в том же контексте фарцовки, что джинсы или жевательная резинка.
Многие гордились дореволюционными связями: считалось круто иметь дедушку-дворянина или прабабку-белую эмигрантку.
«Советским» в их представлении был пьющий дядя Вася-водопроводчик, тётя Люся-буфетчица или завполитпросвет-держиморда. Стругацкие, Марлен Хуциев или Королёв «советскими» не считались — их воспринимали скорее как жертв системы или счастливчиков, которых репрессии обошли стороной.
Советское прочно ассоциировалось с мужиками в чёрных костюмах и шапках-«пирожках». Моя первая любовь, Саша Рудаков, сын высокопоставленных номенклатурных родителей во втором поколении, работая дворником, буквально горел ненавистью к властям.
Были разные разновидности неформалов:
Ленинградские художники из Союза художников — самые яростные ненавистники всего советского, но при этом консервативные инаименее образованные. Из их среды вышла «Память» — монархисты, антисемиты, националисты, любители сапога и плётки, носители «традиционных ценностей». Помню, как мама красавца-поэта Никиты Блинова (одноклассника Цоя по СХШ) купила себе специальное кресло с магическими стёклами, чтобы защищаться от «жидомасонских излучений».
Рок-клуб — модные, относительно интернациональные, готовые интегрироваться в международную систему шоу-бизнеса. Среди них были и настоящие художники — например, великолепная группа «АукцЫон».
Советские инженеры — среда, из которой вышли мы все. Они сочетали бедность и стабильность, гордыню и желание всё изменить, жить «как в Рио-де-Жанейро — чтобы все в белых штанах» (Остап Бендер). Именно среди них появились создатели и потребители советского культурного контента. Инженеры были образованными, чтобы читать Стругацких и спорить о будущем, бедными — чтобы чувствовать несправедливость системы, и стабильными — чтобы позволить себе заниматься культурой: собирать рок-группы, создавать театры, читать самиздат.
А вот рабочий класс в СССР «ничего не пел»: и тут вопрос — почему? Вот мои догадки: времени и ресурсов у него было меньше, потому что, несмотря на зарплаты выше инженерских, у рабочих не было накоплений — ни материальных, ни символических — которые были у детей из более обеспеченных семей. И хотя формально доступ к образованию в СССР не был ограничен, сама культурная и образовательная инициатива воспринималась как партийная и чуждая.
Чем больше об этом думаю, тем больше понимаю, как мне повезло познакомиться в 15 лет с моим учителем Вадиком Максимовым! Его Театральная лаборатория оставалась маргинальной по отношению к доминирующим течениям советской оппозиции — и, возможно, именно поэтому была самой советской.
Он всегда повторял: «Все власти одинаковые. Хорошего правительства не бывает».